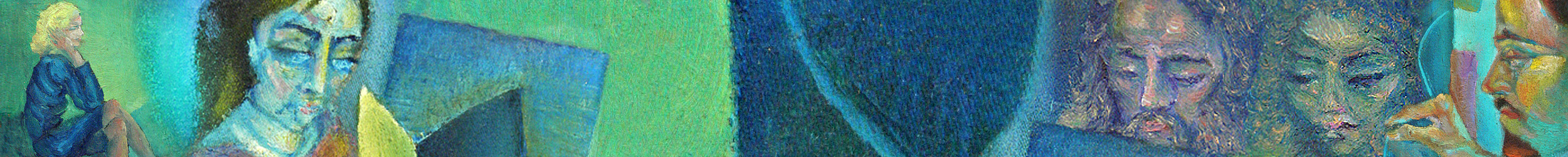Личное дело или Пир во время чумы
Собрание сочинений в 2 частях и десяти сводах
Перед вами собрание моих сочинений. Но это также и одно сочинение, которое я создавал всю жизнь, собирая его из отдельных самостоятельных произведений в сборники и своды.
Потому что внутреннее единство этих произведений напрашивалось на внешнее объединение их в стройно-упорядоченное целое. Так строились старые города. Дом за домом, улица за улицей. А потом всё обводилось городскими стенами. Однако у меня были большие возможности для упорядочения и объединения, чем у зодчих, да и у издающихся писателей. Дома заселяются жильцами. Их поэтому затруднительно перестраивать и тем более переставлять на другое место. Изданные книги тоже затруднительно изменять. Они читаны. Содержание их уже известно. Нельзя так же изменить хронологический порядок их издания, а значит и их последовательность.
У меня, складывающего свои произведения в ящик, таких затруднений не было. Я мог свои произведения подгонять к друг другу, переделывать и перетасовывать в любом порядке. Но объединению всех моих произведений в одно, способствовала и сама история моего писательства.
В давней юности, после некоторых литературных опытов показавшихся мне удачными, я замыслил огромное многотомное сочинение, которое должно состоять из нескольких серий: романов, поэм и научных исследований. Но этот замысел рухнул. Всякий план, тем более творческий, неосуществим, если он не стремится подчинить себе стихию, а не вытекает из неё как следствие. План основан на прошлом опыте. А по мере выполнения плана, прошлое растёт и изменяется и вырастает за пределы плана, неизменного по своему смыслу. Поэтому-то и в плановом хозяйстве будущее, чем дальше, тем больше, отстаёт от прошлого.
Но не только поэтому я оказался от своего первоначального всеобъемлющего плана. Я тогда понял, что мне не пробиться к читателю. В этом было главное. Чтоб пробиться, мне конечно в первую голову, мешало мировоззрение, которое не могло пройти, особенно в ту пору. Мешала мне и сложность формы. А это, помимо трудности восприятия, было и осталось в нашей стране вопросом тоже мировоззрения. И не в нашей стране сложность, уже по другим причинам, представляла бы затруднение, разве что совпала бы с модой на авангардизм, хотя и не имея к нему отношения, вернее к моде на него.
Я сам в юности пытался отказаться от всякой необычности и внешней сложности пока не пришёл к старой мысли, что в старые мехи нельзя наливать новое вино. Более того, я понял, что не только не нужно или трудно, но и не возможно решать новые задачи старыми приёмами. Потому что приём и есть сама задача или её единственное выражение. Я пытался в нескольких местах своего сочинения, в водном романе, в предисловии ко второму своду и в заключительных главах всего сочинения, с разных точек зрения объяснить то, что может показаться непонятным, необычным, сложным и малодоступным. Но я считаю, что искусство имеет такое же право на недоступность, как и наука. Тем более что недоступность зависит не столько от сочинителя, сколько от читателя. Искусство не развлечение и не отдых. Это дело. Наука — тоже дело. Но наука — это только введение в искусство.
В юности же я увидел и другую непреодолимую пропасть, отделяющую меня от читателя. Чтоб пробиться к нему, надо пробиваться сквозь писательско —издательскую среду. Нужны, — история не знает исключений, — посредники. Иногда — это отдельные люди. Иногда — своя среда. Нужно быть принятым.
Иногда помогает кажущийся случай. Но всегда — это не зависящие от человека обстоятельства.
Человека делает место. И как раз потому, что человек делает место, но не себе, а другим.
Не пробиться даже пробивным. Но пробивные и возникают там, где есть пробоины.
Я понял тогда, что хотя бы и был я пробивным, а пробивным я не был, но мне надо сделать выбор между двумя решениями.
Либо пробиваться, но тогда нельзя писать, по крайней мере, то, что я хочу. А я не могу писать то, что не хочу.
Либо писать, как хочу и как могу, но уже навсегда смирившись с отсутствием читателя.
Последнее решение было явно бессмысленным. Но его то я и выбрал. Потому что не мог не писать.
И вот я стал писать, но не следуя задуманному плану. Наоборот, оказалось, что всё время план следовал за мной. Правда, он был уже не тот неосуществлённый и неосуществимый. И состоял не из того. Но всё написанное мной воссоединилось в то, что я назвал: «Личное дело или Пир во время чумы».
Это название, как и все мои названия, немного загадочно и для меня. Потому что то, что кроется за названиями — не ответы, а вопросы. Но в этом названии есть упрёк самому себе. Я писал — как пировал. Во время всеобщего бедствия устроил себе уединённый пир творчества и красоты. От этого пиршества, даже объедки, похоже, никому не достанутся. Это себялюбиво. Но что же я мог делать иного? У нас даже самосожжение осталось бы без пользы — неизвестным.
Я думаю, по-деловому, то есть без излишнего самомнения, но и без ложной скромности, что моё сочинение нужно для русской культуры. Оно необходимое звено между глуповатым русским реализмом прошлого века и литературной премудростью будущего. Эта премудрость не усложнение, а переход в следующий порядок мышления. Из первичного, непосредственного науки и искусства неизбежно становятся вторичными, не страшно сказать, заумными.
То, что нужно для русской культуры, не менее нужно и для мировой. С моей точки зрения русская мысль давно опередила европейскую. Мы просто этого не заметили.
Но будут ли вообще существовать сама Русь, русское и мы — русские?
Бедствие продолжается. Мы в карантине. Чума сеет и косит духовную смерть. И будет ли чуме конец? Чума его знает.
Как бы то не было, но по-прежнему остаётся вопрос о читателе. Речь идёт не о массовом читателе, хотя и он был бы не лишним, да он и возможен в иных условиях. Потому что сложность и необычность для ищущего ума привлекательны. А молодёжь всегда ищет, пока она холостая. Пока её с холостого хода не впрягли в работу семья и общество.
Но для моего сочинения достаточно было бы и ограниченного круга читателей. И даже просто достаточно его издать. Книги вылежали бы до своего времени. И стали общим достоянием.
Предстоящее сейчас трудности те же, что и были у меня прежде, но к ним прибавятся еще некоторые. Я ясно вижу их теперь — после окончания своего сочинения.
Ретрограды подымают на смех авангард, злобствуя на его недоступность. И преуспевают в этом. Считается, что смех убивает. Но смеются над удивительным, воспринимая его как курьёз. Это синоним удивительного, но с презрительным оттенком. А между тем, удивительное — это личность. То есть единственная ценность. Удивление — это то для чего мы живём.
Смех убивает только ничтожество, когда ничтожества же смеются над собратом из подобострастия перед начальством, соизволившим сострить.
Но убивать нужно не ничтожества. Наоборот. Великое смешно. И не потому, что расстояние между понятиями тут меньше шага. Здесь просто тождество. Ведь величина устанавливается сравнением. А великое от мелкого отличается только размером пустоты, спесью же раздутой непомерно.
Нет великих и не великих писателей. Есть личности. Они неизмеримы. Есть безликие. Их мерят. И в глубину. И в ширину. Но измерением не заполнить их пустоты.
Я понимаю, что если я буду издан, то мне грозит признание в качестве литературного и философского курьёза. Но это не страшно. Наоборот, хочется остаться вечно новым. Диким для всех ручных.
Еще одна опасность на пути к читателю — это то, что я не профессионал. У меня нет дипломов, ни предварительной известности, ни знакомых среди известных, которые могли бы меня представить и подтвердить своим авторитетом, что меня стоит прочитать. А профессионализм теперь считается чуть ли не «знаком качества». Но одно дело — умение, другое — из чего оно состоит. А состоит оно из обучения чужому мастерству, то есть подражания, или собственной творческой изобретательности. Научиться чужому умению нужно, но только для того, чтоб не употреблять его. Нужно своё умение.
Я поэтому рад что не профессионал. Всё хорошее в науке и искусстве и в литературе, особенно в русской, создано дилетантами. И не очень грамотными.
Пока что я говорил о трудностях или опасностях в обретении читателей. Есть и другие. Например, опасения за мои рукописи. Время портит их. Они выцветают, выгорают. Их нужно перепечатать, потому что, как и в живой природе, размножение есть единственный пока способ самосохранения и бессмертия.
Другая опасность тоже техническая. Это необходимость правки. Заняться ею у меня не было времени. Ведь это потребовало бы переписки всего текста, иначе в нём потом было бы ещё труднее разобраться. А он и так многократно переписан мною. Правку надо совместить с перепечаткой. Но правка должна касаться только «ляпов», то есть описок, пропусков, ошибок. Их у меня довольно много. Этим я всегда страдал. Опасно если будут внесены ненужные исправления. Намеренные стилистические, синтаксические, правописательные отклонения должны остаться. Их тоже довольно много.
И, конечно, есть еще общая, техническая тоже, трудность — это объём. Вероятно более трех тысяч печатных страниц.
И, вероятно, главная опасность в том, что вы со временем и из-за превратностей судьбы забудете о моих рукописях, и они исчезнут в макулатуре.
В заключение хочу предостеречь вас от попыток найти что-либо автобиографическое в моём сочинении. Что-нибудь в нём, в особенности во вступительном романе, может показаться вам похожим на то, что я рассказывал о себе. Но там всё придумано. А если использовано что-нибудь из пережитого, то оно переиначено.
Художнику не обойтись без натуры и натурщиков. Однако нельзя, например, рассматривать Сикстинскую мадонну, как чей-то персональный портрет.
Тем более это относится к произведению не реалистическому. А в моем сочинении, включая и роман, реализм вывернут наизнанку.
Г.Спешнев.
22 декабря 1983
Примечание
С 1984 г. Я перерабатываю своё сочинение.
1) Заглавие его будет изменено предположительно на «Личное дело».
2) Будет изменена общая структура.
3) Будут изменены заглавия и подзаголовки, некоторых его частей.
4) Изменения в тексте будут незначительны, но их будет много. Если не успею переписать, то непереписанное (текст) оставить без изменения.
5) Если в переписанном тексте останутся чистые страницы (для заглавий) то на них перенести старые заглавия со старого текста.
На случай перепечатки моих сочинений без моего участия:
1) Никакой стилистической правки!
2) Но многочисленные «ляпы», т.е. явные пропуски, описки и ошибки исправить нужно.
3) Однако не следует считать за ошибки то, что сделано мной сознательно, т.е. намеренное преобразование слов и речи, иногда (при невдумчивом чтении) незаметное, например — «предверие» вместо «преддверие» или одно слово «просебя» вместо двух «про себя» и т.д.
4) Обращаю внимание на «верстку», т.е. на размещение и нумерацию текста и на пробелы. Иерархия, симметрия и чередование частей в моих сочинениях играют важную роль. Я не располагал разнообразием печатных шрифтов и поэтому в рукописи это, может быть, не бросается в глаза и при перепечатке (при невнимательном чтении) может быть не соблюдено (не дай Бог!).
25.X.81